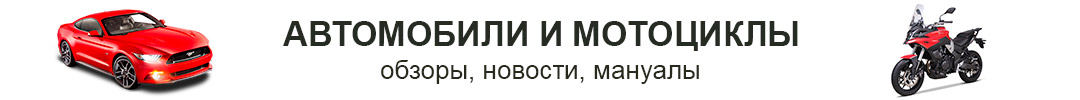Карина добротворская кто нибудь видел мою девчонку цитаты
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Также данная книга доступна ещё в библиотеке. Запишись сразу в несколько библиотек и получай книги намного быстрее.
Посоветуйте книгу друзьям! Друзьям – скидка 10%, вам – рубли
По вашей ссылке друзья получат скидку 10% на эту книгу, а вы будете получать 10% от стоимости их покупок на свой счет ЛитРес. Подробнее
- Объем: 270 стр. 17 иллюстраций
- Жанр:б иографии и мемуары, и стории из жизни
- Теги:а втобиографическая проза, и стория любви, л ичная жизнь знаменитостей, р едакция Елены ШубинойРедактировать
Эта и ещё 2 книги за 299 ₽
По абонементу вы каждый месяц можете взять из каталога одну книгу до 600 ₽ и две книги из персональной подборки.Узнать больше
Моя девчонка ко мне уже не вернется, – сказал ты. Ты оказался не прав. Я к тебе вернулась. Ты умер, но я прожила с тобой еще целых семнадцать лет. А теперь дай мне, пожалуйста, уйти. Прости. Отпусти меня.
Моя девчонка ко мне уже не вернется, – сказал ты. Ты оказался не прав. Я к тебе вернулась. Ты умер, но я прожила с тобой еще целых семнадцать лет. А теперь дай мне, пожалуйста, уйти. Прости. Отпусти меня.
Я так отчетливо помню, как увидела тебя в первый раз. Эта сцена навсегда засела у меня в голове – словно кадр из фильма
Я так отчетливо помню, как увидела тебя в первый раз. Эта сцена навсегда засела у меня в голове – словно кадр из фильма
Любить больно. Будто дала позволение освежевать себя, зная, что тот, другой, может в любую минуту удалиться с твоей кожей. Сьюзен Зонтаг. “Дневники” Когда гроб опускали в могилу, жена даже крикнула: “Пустите меня к нему!”, но в могилу за мужем не пошла… А. П. Чехов. “Оратор”
Любить больно. Будто дала позволение освежевать себя, зная, что тот, другой, может в любую минуту удалиться с твоей кожей. Сьюзен Зонтаг. “Дневники” Когда гроб опускали в могилу, жена даже крикнула: “Пустите меня к нему!”, но в могилу за мужем не пошла… А. П. Чехов. “Оратор”
заворожены линчевской эстетикой, кислотными цветами, сюрреалистическим темным миром, где
заворожены линчевской эстетикой, кислотными цветами, сюрреалистическим темным миром, где
“По-настоящему объективная критическая интонация может опереться только на доброжелательность. И наоборот – равнодушие с одинаковой легкость…
“По-настоящему объективная критическая интонация может опереться только на доброжелательность. И наоборот – равнодушие с одинаковой легкость…
—Моя девчонка ко мне уже не вернется, —сказал ты. Ты оказался не прав. Я к тебе вернулась. Ты умер, но я прожила с тобой еще целых семнадцать лет. А теперь дай мне, пожалуйста, уйти. Прости. Отпусти меня.
. слепота влюбленных, заставляющая их идеализировать предмет обожания, - на самом деле не обман, а прозрение. А что, если люди такие и есть, какими их видят любящие глаза в момент наивысшей влюбленности? Что, если этот любовный свет высвечивает их сущность?
Может быть, мне помог бы обряд похорон - обряд прощания и прощения. Похороны ведь нужны не мертвым, а живым.
Тот, кто на самом деле бросил пить, может время от времени спокойно выпивать. А вот тот, кто запретил себе даже притрагиваться к рюмке, - тот непременно сорвется, и вариантов тут нет.
Я то знаю, что хорошая лекция - как секс. Между тобой и аудиторией возникает живая чувственная связь.
И что рефлексия бывает интеллектуальная, а бывает эмоциональная - и последняя часто оказывается глубже.
Я так хочу научиться снова любить - своей выжженной душой. Любить - без сравнения с тобой, без оглядки на прошлое.
Любовь наполняет невероятной энергией—и она же отнимает ее. До сих пор не могу понять этот удивительный процесс. Зато хорошо понимаю теперь, что любовь—это хаос, а вовсе не гармония. И боль она приносит чаще, чем радость.
Мой Сережа до встречи со мной почти не пил. Удивительно, да? Дожил до тридцати трех лет - и ни разу не был в хлам пьяным, не блевал над унитазом, не творил глупостей, не мучился похмельным стыдом. - Словом, парень не жил, - сказал бы ты.
Язык отказывается это фиксировать: в нем есть слово "сирота" - для того, кто кто потерял мать или отца. Но для названия того, кто потерял ребенка, никакого названия нет.
Ты потом говорил мне: "ты была такая царственная и красивая, что я совсем растерялся, нахамил тебе и даже взглянуть на тебя боялся".
—Моя девчонка ко мне уже не вернется, —сказал ты. Ты оказался не прав. Я к тебе вернулась. Ты умер, но я прожила с тобой еще целых семнадцать лет. А теперь дай мне, пожалуйста, уйти. Прости. Отпусти меня.
. слепота влюбленных, заставляющая их идеализировать предмет обожания, - на самом деле не обман, а прозрение. А что, если люди такие и есть, какими их видят любящие глаза в момент наивысшей влюбленности? Что, если этот любовный свет высвечивает их сущность?
Может быть, мне помог бы обряд похорон - обряд прощания и прощения. Похороны ведь нужны не мертвым, а живым.
Тот, кто на самом деле бросил пить, может время от времени спокойно выпивать. А вот тот, кто запретил себе даже притрагиваться к рюмке, - тот непременно сорвется, и вариантов тут нет.
Я то знаю, что хорошая лекция - как секс. Между тобой и аудиторией возникает живая чувственная связь.
И что рефлексия бывает интеллектуальная, а бывает эмоциональная - и последняя часто оказывается глубже.
Я так хочу научиться снова любить - своей выжженной душой. Любить - без сравнения с тобой, без оглядки на прошлое.
Любовь наполняет невероятной энергией—и она же отнимает ее. До сих пор не могу понять этот удивительный процесс. Зато хорошо понимаю теперь, что любовь—это хаос, а вовсе не гармония. И боль она приносит чаще, чем радость.
Мой Сережа до встречи со мной почти не пил. Удивительно, да? Дожил до тридцати трех лет - и ни разу не был в хлам пьяным, не блевал над унитазом, не творил глупостей, не мучился похмельным стыдом. - Словом, парень не жил, - сказал бы ты.
Язык отказывается это фиксировать: в нем есть слово "сирота" - для того, кто кто потерял мать или отца. Но для названия того, кто потерял ребенка, никакого названия нет.
Ты потом говорил мне: "ты была такая царственная и красивая, что я совсем растерялся, нахамил тебе и даже взглянуть на тебя боялся".
Также данная книга доступна ещё в библиотеке. Запишись сразу в несколько библиотек и получай книги намного быстрее.
Посоветуйте книгу друзьям! Друзьям – скидка 10%, вам – рубли
По вашей ссылке друзья получат скидку 10% на эту книгу, а вы будете получать 10% от стоимости их покупок на свой счет ЛитРес. Подробнее
- Объем: 270 стр. 17 иллюстраций
- Жанр:б иографии и мемуары, и стории из жизни
- Теги:а втобиографическая проза, и стория любви, л ичная жизнь знаменитостей, р едакция Елены ШубинойРедактировать
Эта и ещё 2 книги за 299 ₽
По абонементу вы каждый месяц можете взять из каталога одну книгу до 600 ₽ и две книги из персональной подборки.Узнать больше
Моя девчонка ко мне уже не вернется, – сказал ты. Ты оказался не прав. Я к тебе вернулась. Ты умер, но я прожила с тобой еще целых семнадцать лет. А теперь дай мне, пожалуйста, уйти. Прости. Отпусти меня.
Моя девчонка ко мне уже не вернется, – сказал ты. Ты оказался не прав. Я к тебе вернулась. Ты умер, но я прожила с тобой еще целых семнадцать лет. А теперь дай мне, пожалуйста, уйти. Прости. Отпусти меня.
Я так отчетливо помню, как увидела тебя в первый раз. Эта сцена навсегда засела у меня в голове – словно кадр из фильма
Я так отчетливо помню, как увидела тебя в первый раз. Эта сцена навсегда засела у меня в голове – словно кадр из фильма
Любить больно. Будто дала позволение освежевать себя, зная, что тот, другой, может в любую минуту удалиться с твоей кожей. Сьюзен Зонтаг. “Дневники” Когда гроб опускали в могилу, жена даже крикнула: “Пустите меня к нему!”, но в могилу за мужем не пошла… А. П. Чехов. “Оратор”
Любить больно. Будто дала позволение освежевать себя, зная, что тот, другой, может в любую минуту удалиться с твоей кожей. Сьюзен Зонтаг. “Дневники” Когда гроб опускали в могилу, жена даже крикнула: “Пустите меня к нему!”, но в могилу за мужем не пошла… А. П. Чехов. “Оратор”
заворожены линчевской эстетикой, кислотными цветами, сюрреалистическим темным миром, где
заворожены линчевской эстетикой, кислотными цветами, сюрреалистическим темным миром, где
“По-настоящему объективная критическая интонация может опереться только на доброжелательность. И наоборот – равнодушие с одинаковой легкость…
“По-настоящему объективная критическая интонация может опереться только на доброжелательность. И наоборот – равнодушие с одинаковой легкость…
“Они дали фильму нечто большее, чем жизнь. Они дали ему стиль”, – так ты писал про ослепительно красивых героев “Человекаамфибии”.
“Они дали фильму нечто большее, чем жизнь. Они дали ему стиль”, – так ты писал про ослепительно красивых героев “Человекаамфибии”.
– А тебе есть о чем с ним пить?
– А тебе есть о чем с ним пить?
охраняла. Нам так крепко с детства вбивали в голову, что девушка должна быть гордой, никогда не делать первый шаг, первой не звонить, не проявлять инициативы, изображать холодность и равнодушие. Это была по-советски строгая школа манипуляции, притворства, маневров, раз и навсегда установленных лицемерных правил.
охраняла. Нам так крепко с детства вбивали в голову, что девушка должна быть гордой, никогда не делать первый шаг, первой не звонить, не проявлять инициативы, изображать холодность и равнодушие. Это была по-советски строгая школа манипуляции, притворства, маневров, раз и навсегда установленных лицемерных правил.
Я не то чтобы их просила – я о них мечтала. Вслух. Тебе этого было достаточно. Не знаю, отстоял ли ты лютой январской ночью очередь на углу Невского, договорился ли с кем-то, чтобы тебя пропустили быстрее, или просто заплатил спекулянту втридорога. Ты не посвящал меня в детали. Просто принес заветный голубой флакон, заставив пережить острое мгновение счастья. И сам был счастлив – кажется, даже больше меня.
Я не то чтобы их просила – я о них мечтала. Вслух. Тебе этого было достаточно. Не знаю, отстоял ли ты лютой январской ночью очередь на углу Невского, договорился ли с кем-то, чтобы тебя пропустили быстрее, или просто заплатил спекулянту втридорога. Ты не посвящал меня в детали. Просто принес заветный голубой флакон, заставив пережить острое мгновение счастья. И сам был счастлив – кажется, даже больше меня.
А ведь, казалось бы, столько лет прошло – пора бы научиться принимать и любить то, что мне дано, во всем его несовершенстве. Понять, что и собак, и людей совершенными делает только любовь.
А ведь, казалось бы, столько лет прошло – пора бы научиться принимать и любить то, что мне дано, во всем его несовершенстве. Понять, что и собак, и людей совершенными делает только любовь.

Я могла тебя процитировать или вспомнить одну из твоих блестящих реплик. Но говорить о тебе — нет, не могла. Было слишком больно. Возникало ощущение, что тем самым я тебя предаю. Или с кем-то делю. Даже если твои родители произносили что-то вроде “А вот Сережка бы, наверное, сейчас…” — я молчала в ответ.
И вдруг — я заговорила. С удивлением обнаружила, что не только не чувствую боли, произнося твое имя или странное словосочетание “мой первый муж”, но даже получаю от этого удовольствие. Что это? Почему? Потому ли, что я стала тебе (и о тебе) писать, понемногу выпуская своих демонов? Или потому, что я влюбилась?
Сегодня я видела Таню Москвину — впервые за много лет. Вы вместе учились в институте, ты восхищался мощью ее критического дара и способностью ничего и никого не бояться. Танька всегда резала правду-матку, была иррациональна, пристрастна и явно страдала от того, что ее тонкая душа помещена в несообразно большое тело (ты наверняка так же страдал от своих “карманных” размеров). Однажды, когда мой сын Иван был еще совсем маленьким, Москвина пришла ко мне в гости. Иван внимательно посмотрел на ее яркое асимметричное лицо. Она, как и я, перенесла в юности неврит лицевого нерва. Когда меня в восемнадцать лет привезли с наполовину парализованным лицом в больницу, медсестра, записывающая мои данные, спросила: “Работаете, учитесь?”. — “Учусь в театральном институте, на театроведческом факультете”. — “Слава богу, что на театроведческом. Актрисы-то из вас теперь не выйдет, с таким-то лицом”. Что из меня теперь не выйдет красивой женщины и что это для меня куда большая драма, ее не занимало.
— А почему у тебя один глаз меньше другого? — поинтересовался Иван у Москвиной.
— Сейчас я как дам тебе в глаз, и у тебя будет то же самое, — немедленно парировала Танька. То, что такое обычно не говорят маленьким детям, ей и в голову не приходило. Так она жила — ни в чем никаких ограничений. Ты свою бунтарскую природу мучительно укрощал, к тому же был деликатен и не любил задевать людей. А Танька позволяла себе всегда и во всем быть собой и ничего не делать наполовину. Если бутылка водки — то до дна. Если страсть — то до победного конца. Если ненависть — то до самых печенок. Она умела быть так упоительно свободной и так одержимо неправой, что ты немного ей завидовал. Она тебе всегда отдавала должное, как будто ваша группа крови, замешанная на питерском патриотизме, была одинаковой.
Сегодня Москвина рассказала мне, как ты впервые показал ей меня — в библиотеке Зубовского института на Исаакиевской, 5, куда вы с ней два раза в неделю ходили в присутствие.
— Смотри, какая девушка, — гордо сказал ты. — Это Карина Закс. Она очень интересуется рок-культурой.
— А наш роман уже начался тогда? — спросила я Таню.
— Кажется, нет. Но он уже явно был влюблен.
Ну да, рок-культура, конечно. На третьем году обучения я написала курсовую работу под названием “Над пропастью во ржи”. Тогда было модно рассуждать про молодежную культуру. Альтернативную молодежь, разными способами выказывающую презрение к обществу, почему-то называли системой, а мохнатых татуированных юношей, которые скандировали “Мы вместе!” на концертах “Алисы”, — системщиками (сейчас системой называют тех, кто группируется вокруг власти и денег, а системщиками — тех, кто приводит в порядок компьютеры). “Мир, как мы его знали, подходит к концу”, — с особым ленинградским придыханием пел Гребенщиков, закидывая голову и закрывая глаза. Он был первым рокером, чью кассету я слушала по десять раз на дню, еще не зная, как он золотоволос и хорош собой. Ленинградский рок-клуб, погружавший нас в сексуальный экстаз, латышская картина “Легко ли быть молодым?”, Цой, похожий на Маугли и всегда одетый в черное, бешеный Кинчев с подведенными глазами в фильме “Взломщик”, передачи “Взгляд” и “Музыкальный ринг” на ленинградском телевидении, где взрослые дяди снисходительно пытались разобраться с неформалами и как-то отформатировать рокеров (легче всего этому форматированию поддавался, конечно, БГ, которому на любые системы всегда было наплевать). Я написала страстную курсовую от первого лица, где мой папа высказывал пошло-примирительные идеи старшего поколения, где институтские гардеробщицы ругали мерзкую волосатую молодежь и где цитаты из “Аквариума”, “Алисы” и шинкаревских “Митьков” иллюстрировали мои наивные мысли о духовной свободе. Эта захлебывающаяся студенческая работа понравилась руководительнице критического семинара Татьяне Марченко. Она показала ее Якову Борисовичу Иоскевичу, который вместе с тобой делал сборник статей о молодежной культуре.
Меня вызвали на Исаакиевскую — на встречу с вами обоими. Я готовилась к этой встрече, безжалостно завивала длинные волосы горячими щипцами, румянила щеки ватой, густо красила ресницы (тушь надо было развести слюной) и слоями накладывала тональный крем. Зачем я это делала — понятия не имею, моя кожа была идеально гладкой и косметики не требовала.
Но мне с детства казалось, что можно быть лучше, красивей, хотелось преодолеть разрыв между тем, какой я была на самом деле и какой могла бы быть, если б… Если б что? Ну хотя бы волосы были кудрявей, глаза больше, а щеки румяней. Как будто, намазывая лицо тональником (продукт совместного творчества L’Oreal и фабрики “Свобода”, конечно же, неправильного оттенка, куда темнее, чем требовался моей бледной коже), я пряталась под маской. При этом я надела джинсы с шестью молниями — молодежная культура все-таки. Не жук чихнул.
Я была уверена, что ты будешь меня хвалить, ведь не каждую студентку третьего курса собираются печатать во взрослом научном сборнике. Ты вошел на кафедру, смерил меня ледяным взглядом (я спросила себя, помнишь ли ты нашу встречу на Фонтанке) и высокомерно сказал:
— Я не поклонник такого стиля письма, как ваш.
Я молчала. Да и что можно было ответить? Я-то считала, что написала нечто и вправду классное. И вообще, не я сюда напросилась, вы меня позвали.
— Вы пишете очень по-женски, истерично и эмоционально. Очень сопливо. Много штампов. И к тому же это надо будет в два раза сократить, — произнося всё это, ты почти на меня не смотрел. Ты потом говорил мне: “Ты была такая царственная и красивая, что я совсем растерялся, нахамил тебе и даже взглянуть на тебя боялся”.
Я продолжала молчать. В этот момент на кафедру вошел Яков Борисович.
— А, так это вы — та самая Карина? Прекрасная работа, прекрасная. Очень украсит наш сборник — написано так страстно и с такой личной интонацией.
Помню, что я испытала благодарность ему и обиду на тебя, который в этот момент равнодушно смотрел в окно.
Текст я действительно сократила вдвое. Но не убрала из концовки своего отца с его репликами из репертуара тогдашних “папиков” (“папиным” в то время называли не только кино). Тебе этот финал казался глупым, а мне — принципиальным, потому что мне хотелось сохранить эту личную интонацию. Обида долго не проходила, я не могла забыть, как ты со мной обошелся. С тех пор мне казалось, что ты продолжаешь меня презирать, и, когда я где-то встречала тебя, я как будто слышала твой голос: “Я не поклонник такого стиля…” И бурчала себе под нос: “Ну а я не поклонник вашего интеллектуального занудства”.
Читайте также: